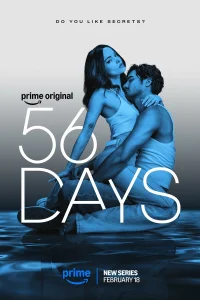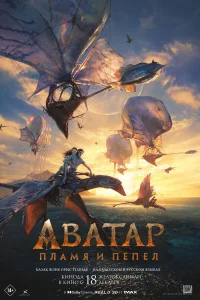Сквозь пленку чужих лет и обычаев взирала я на эту землю. Византия осталась в сердце сном из золота и ладана, а здесь — снега, да леса бескрайние, да бревенчатые стены, пахнущие смолой. Москва казалась мне грубой иконой, написанной неискусной рукой. Но под этой грубостью билась сила, которой уже не знал изнеженный Царьград.
Мой супруг, Иван, не походил на ромейских василевсов. В его молчании таилась не придворная мудрость, а упрямая, медвежья воля. Он собирал земли, как скупой хозяин копит зерно, тихо и неуклонно. Я привезла с собой не только двуглавого орла в гербе и призраки былого величия. Привезла тонкость мысли, искусство интриги, понимание, что власть — это не только меч, но и обряд, символ, жест. Здесь, среди дубовых теремов, я стала зодчим невидимых чертогов — идеи, что Москва есть Третий Рим, наследница павшего нашего.
Видела, как крепла держава из княжеской вотчины. Как сбросили, наконец, татарское иго — не одной битвой, а этой самой Ивановой медлительной, каменной тяжестью. И чувствовала: в жилах моего сына Василия, а потом и в грозном взоре маленького Ивана, внука моего, течет и наша, палеологовская, кровь. Кровь цезарей, замешанная на суровой московской почве. Из этого сплава родится нечто новое, страшное и великое — царство, которое уже не будет уделом, но империей.
А я, София, стояла у истоков. Чужестранка, ставшая матерью этой новой власти. Смотрела с высоты своих теремных палат, как тает вдали позолота воспоминаний, и вырастает передо мной в снегах суровый, незнакомый и мой собственный Рим.